Соломонова чувствую рядом бабы текст, Как я выживаю одна с ребенком
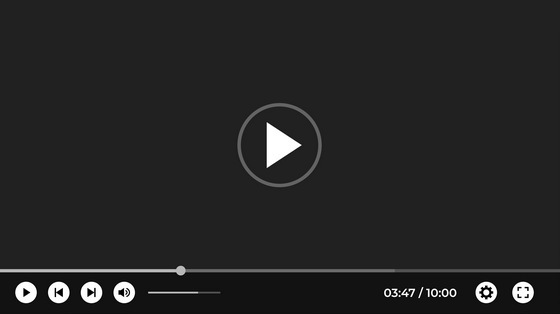
Что тигр в ловушке гор, с уступа на уступ он бросается, и рёв стоит, и дикий вой, и описать его, по меньшей мере, глупо, настолько быстро он меняет облик свой. Новаторство принципа «объективизации» повествовательного дискурса как «лица от автора» заключалось именно в выстраивании на драматургическом уровне особых отношений этого «лица» с публикой и остальными персонажами: для него, например в отличие от всех прочих действующих лиц , не существовало «четвертой стены», и он мог поделиться любой мыслью и любым наблюдением непосредственно с публикой, и, кроме того, это действующее лицо могло влиять на ход действия и на героев, но это правило не работало в обратную сторону, для других персонажей «лицо от автора» оставалось человеком-невидимкой. Смешно, в конце концов, применять его к вечно острящим, вроде бы нормальным, людям, жившим на Пушкарской и в «лауреатнике»!
Если первое удается выполнять без особого труда, то со вторым у Соломоновой иногда все же возникают проблемы. Пока процесс обсуждения не завершён, статью можно попытаться улучшить, однако следует воздерживаться от переименований или немотивированного удаления содержания, подробнее см.
Не снимайте пометку о выставлении на удаление до окончания обсуждения. Администраторам: ссылки сюда ,. Сола Монова Юлия Валерьевна Соломонова род. Родилась в г. Владивостоке, Приморский край. В году закончила Дальневосточную академию искусств по специальности «театральный режиссёр-постановщик», в Дальневосточный технический университет по специальности «менеджмент производственной деятельности». Работала на телевидение режиссёром и ведущей своих авторских программ «РТР», «ТВЦ - Лица 23», «ОТВ-Прим» об экстриме и молодежной культуре; успешно занималась рекламой, создав несколько видеостудий и работая в качестве креативного продюсера.
В году закончила Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. Режиссёр нескольких кинофильмов в т. Победитель российских поэтических конкурсов: номинация «Народный поэт» сайта «Стихи. Широкую известность получила с развитием социальных сетей. Сола Монова откровенно эпатировала публику «ВКонтакте », впервые в «рунете» собрала в поэтическом блоге полмиллиона фолловеров.
Её стихи о любви в «эпоху потребления» разошлись миллионными репостами.. Автор поэтических сборников «Левая книга», «Правая книга», «Розовая книга», «Жалобная книга» и других.
Режиссёр спектакля «Ты не бойся» в театре «Мастерская» Москва. В интернете широкую популярность приобрело движение создания видеороликов чтецов ее стихотворений. C г. Странница успокоилась и, наведенная опять на разговор, долго потом рассказывала про отца Амфилохия, который был такой святой жизни, что от ручки его ладоном пахло, и о том, как знакомые ей монахи в последнее ее странствие в Киев дали ей ключи от пещер, и как она, взяв с собой сухарики, двое суток провела в пещерах с угодниками.
Сосну, опять пойду приложусь; и такая, матушка, тишина, благодать такая, что и на свет Божий выходить не хочется». Пьер внимательно и серьезно слушал ее. Князь Андрей вышел из комнаты. И вслед за ним, оставив божьих людей допивать чай, княжна Марья повела Пьера в гостиную.
Княжна Марья молча посмотрела на него и нежно улыбнулась. Здоровье его зимой лучше, но прошлой весной рана открылась, и доктор сказал, что он должен ехать лечиться. И нравственно я очень боюсь за него. Он не такой характер как мы, женщины, чтобы выстрадать и выплакать свое горе.
Он внутри себя носит его. Нынче он весел и оживлен; но это ваш приезд так подействовал на него: он редко бывает таким. Ежели бы вы могли уговорить его поехать за границу! Ему нужна деятельность, а эта ровная, тихая жизнь губит его. Другие не замечают, а я вижу. В 10 м часу официанты бросились к крыльцу, заслышав бубенчики подъезжавшего экипажа старого князя.
Князь Андрей с Пьером тоже вышли на крыльцо. Старый князь был в хорошем духе и обласкал Пьера. Перед ужином князь Андрей, вернувшись назад в кабинет отца, застал старого князя в горячем споре с Пьером. Пьер доказывал, что придет время, когда не будет больше войны. Старый князь, подтрунивая, но не сердясь, оспаривал его. Бабьи бредни, бабьи бредни, — проговорил он, но всё таки ласково потрепал Пьера по плечу, и подошел к столу, у которого князь Андрей, видимо не желая вступать в разговор, перебирал бумаги, привезенные князем из города.
Старый князь подошел к нему и стал говорить о делах. Я без желаний, я без запросов, Я без забытых стихов. Как ни старайся, лето — не осень, Жажда иметь — не любовь. Как ни препятствуй, мёртвые листья Все долетят до земли. Не возвращайся: сладко мне спится, Если ты где-то вдали. А мои ресницы, как паучьи лапы, Сколько паутины нужно им сплести? В маленькой прихожей надеваю шляпу: Ты меня боишься, лучше мне уйти. Ты меня боишься, как боятся дети Надкусить зубами неизвестный плод.
И смотрю спокойно, думая о лете: Как оно начнётся, как оно пройдёт. По твоим ступеням, вытертым и скользким, Не люблю спускаться пару этажей. Я надела туфли, стала выше ростом, Так хочу остаться, но нельзя уже. Я молчу и медлю, кровь застыла в вене… Помолчав немного, лучше разойтись - Вся немая прелесть этой глупой сцены В том, как ты сжимаешь на прощанье кисть!
И на ступеньках, среди разных лиц, Его поцеловать печальным взглядом И скрыть за занавесками ресниц Воды солёной лёгкую прохладу. Подснежники, что в парке расцвели, Я б для него безжалостно срывала, И облако, что нежится вдали, Ему стелила вместо покрывала. И самый первый изумрудный хмель Из маленьких травинок придорожных Как чёрный кофе приносила бы в постель: Я — сумасшедшая, а значит, мне всё можно.
И подумала: «Ты ждёшь, Наблюдая стрелок бег, А во мне последний дождь Переходит в первый снег». Я ищу его. Вечер стынет. Лестниц тьма. Вздох нахлынет. Я одна. Я хочу его. Мягкий бархат. Легкий сон. Врут все карты. Ну а он? Я люблю его. Слишком поздно. Черный мех. Гаснут звезды. Я люблю его… К черту всех!!!
Камни, заключённые в металлы, - Лишь творенья ловких ювелиров. Девушки, с которыми вы спали, Много ли они вам подарили? Тысячи секундных удовольствий И десятки легких пробуждений?
Хорошо, когда легко и скользко, И экстаз зависит от движений,. Хорошо, когда не слишком долго, И вино в соседнем магазине Дорого, но ровно не на столько, Чтобы не осталось на резину. Вы, конечно, скажете: «Цинично! Хорошо, пусть будет романтично, Вот, к примеру: в небе были звёзды…. Звёзды были, как большие астры На осенних пожелтевших клумбах. Глаз её несмешанные краски, У зрачков — серебряные луны. Как скользило под руками платье, Как легко соприкасались плечи, Скрыла темнота, но под кроватью Утром вы нашли её колечко.
Вы теперь довольны? Но едва ли. Ну тогда, пожалуйста, простите. Вы со стен мои портреты сняли - Мне теперь не важно, с кем вы спите! И я имею подозрение, Что пёс мой писает стихи, Поскольку одухотворения Его характеру близки. Он напряжённый и нацеленный В моменты задиранья лап, И льётся на бордюр побеленный Лирический собачий крап.
А как он бережно относится К произведениям своим: Немного по двору поносится И вновь добавит строчку к ним. И это, видно, исторически, Что наши связи так легки: Мой пёсик гадит поэтически, Я гадкие пишу стихи! Мне двадцать пять, я стала приседать В утяжках на аэробных тренировках, И, как гигантский кроль, пилю морковку, Лишь только б эти прелести согнать.
Живот и попа проиграли бой - Схуднули под напором напряженья, Но бёдер роковые отложенья Незыблемы, как памятник какой. О, мода, как с тобою нелегко! Ведь вроде я не пышка от рожденья: Расплакавшись над «Птичьим молоком», Завидую эпохе Возрожденья.
Моя подруга выдумала ход: Чревоугодьем организм изнежив, Она идёт и попросту блюёт И дальше жрёт ни капельки не реже. В программе интересной «Би-би-си» Назвали это словом «булимия»! От этого, о Господи, спаси, В Европе умирают. Мамма Миа! Мне способ не подходит. Что за бред - Дарить деликатесы унитазу. Есть в бёдрах польза: на краю экстаза За них держаться мягко — или нет? Мне нужен любовник, который взрывается сразу, Без вселенского повода и планов на вечер, Мы вырвем пуговицы, мы войдем в бесконечный Коридор — от касания пальцами до оргазма….
Мне нужен любовник, который сквозь зубы скажет Финальные заклинания и испачкает простыни протеином. Днём я буду писать его сладкое-соленое имя Мысленно на лбах собеседников и становиться влажной. Мне нужен любовник, которого я потеряю без грусти, Без боли, без смеха, без обсуждений с мамой.
О боги, за что мне проклятье! За что мне холодный мрамор! В возрасте самого-самого blossoming! Он срывает лист с печальных клёнов… Ночью, чтоб никто не видел кражу.
Говорят, что даже нет влюблённых, Говорят — и поцелуев… даже…. Вот придёт зима, чтоб мёрзли птицы - На балконе стану сыпать крошки. Невозможно, говорят, влюбиться - Полюбить… тем боле невозможно. Значит, всё бессмысленно и скучно… Говорят… не знала… молодая… Я засуну в рукавицы ручки И испорчу хрупкий лёд следами…. А весною речка сменит русло, В ней кораблики запустят дети… Знаешь, мне сегодня… стало грустно Оттого, что нет любви на свете…. В его комнатах полумрак, Смотрят грустно портреты в зал, У него несчастливый брак И искрящиеся глаза.
А за окнами тот же век, Тот же месяц и тот же Бог. Незнакомый мне человек С рыжим псом у согретых ног. Пьёт горячее молоко, Отдыхая от желчи дня. Очень жаль, что он далеко, Далеко, там, где нет меня. Запомни меня по стонам, По вспоротым бритвой нервам, По странным мечтам о клетке, По чистому цвету кармы.
Из тысячи лжеисторий Мою напечатай первой, Читай её очень редко И плачь вне предела камер. Запомни меня дикаркой, Запомни меня своею, Я в чём-то твоей останусь. Читай мою переписку… Запомни меня подарком Кому-то на день рожденья… Мне кажется, я теряюсь И больше не буду Близко…. Там в облаках нужно спорить с потоками. Зелено-зелено дно Вашей выси, Речка видна с нитевыми истоками. Крупные планы такого не втиснут. Люди всё ждут неустанно прекрасного, Ждать слишком долго, конечно же, трудно.
Милый, Вы чем-то похожи на ястреба, Я — на крольчонка в траве изумрудной. Смотреть на детей в странных комбинезонах, С тележкой бродить в супермаркете долго, Любить равномерно четыре сезона, Постель расстилать не по принципу долга. А можно, я вычищу память, как сумку, Где множество мусора там, за подкладкой, И прошлые комиксы — чьи-то рисунки - Безжалостно вырву из общей тетрадки. А можно, я снова, как будто впервые, Сто раз ошибусь, зарекусь.
Мне же часто Так хочется верить, что люди живые, А не из пластмассы, а не из пластмассы. Вы мне поцелуете руку — так надо по этикету, А я расскажу Вам о детях, оставленных с няней дома… И я буду в чёрное-чёрное платье одета [Его любимое], Вы скажете — я бесподобна…. Потом я поздравлю Вас с чем-то ужасно важным, Успешным, хорошим, полезным и очень нужным… А Вы мне протянете прямоугольник бумажный, Который, конечно же, ляжет в бумажник к мужу….
И встреча продлится минут, ну, от силы… восемь… И всех позовут к столам, в лампах вспыхнут стразы… Мы больше друг друга уже ни о чём не спросим, Как миллионы любовников, не подобравших пазл…. Я уверена, что эти прекрасные украшения на их тонких шеях — Твои подарки, и Ты нежно поднимал их волосы, когда пытался защёлкнуть маленькие застёжки, и говорил что-то очень нежное и искреннее, такое, чего бы никогда не сказал мне…. Что все эти эсэмэски в твоём телефоне, даже подписанные мужскими именами , - тайные послания, кодированные послания, так что только двое могут понять их особенный смысл, и искры сверкают в твоём сердце при каждом сигнале, разрывающим ночь….
Когда я сплю одна, и подвыпившая компания под окнами пытается подражать современным исполнителям, а Ты отдыхаешь в своей спальне без меня или от меня, я уверена, что Ты не один, что кто-то прижимается спиной к Твоему горячему животу и просит натянуть одеяло повыше, чтоб ни один килоджоуль Твоего тепла не был потерян….
А утром Ты улыбаешься, и в незаметных морщинках у глаз мигают блёстки стёртой помады - следы поцелуев: вечерних, ночных, утренних, я уверена, Ты будешь вспоминать их днём…. Мне кажется, что эта ревность, как раковая опухоль, разрывает меня изнутри, она, словно змея, проникла в мою печень, промытую вином и отравленной кровью, и растёт-растёт-растёт, говорят, от рака нет лекарства… А боль, эта постоянная невыносимая боль и треск разрываемых тканей. Ты сказал, что я стала такой тяжёлой, а ведь я почти ничего не ем….
Все мы в чём-нибудь трофеи, Кто — гордыни, кто — порока. Если ты живёшь в кофейнях, Значит, просто одиноко. Всё должно быть очень модным: От мобильников до смерти… С кем она? Она свободна. Сомневаетесь — проверьте. Grayscale… настройка контрастности. Где цвета RGB? Где оттенки для веба? Серый день. Не хватает до коликов страстности. Эта страшная серость спускается с самого неба. Светофор трижды серый моргает водителям.
Поцелуй слишком серый, чтоб день перекрасить мгновенно. Этот серый костюм Вам идет — он почти восхитителен, Но под ним бледно-серая кровь в тон подобранных венах.
Люди существуют параллельно, Людям не нужны пересеченья, Ты не бойся, я уйду мгновенно. Дважды не войду в твоё теченье. Я не буду по телам скитаться От раската реплики финальной. Ты не бойся, мне ведь не пятнадцать - Ухожу я профессионально!!! Чтобы пространство наполнить иконками, Предохраняясь от мира фатального. Я люблю песню о белом шиповнике, Я люблю Вас… только Вас…. Я люблю его так, как бывалый рыбак — свою сеть, Починяя её каждый вечер, ворочая скулами. Я люблю его так, как приговорённые — смерть В своей мягкой постели, а не на электрическом стуле.
Я люблю его так, как любит слепой растаман Приближение к Джа, превращая прозренья в мелодии. Я люблю его так, как меланхоличный туман - Коренной англичанин, пять лет не бывавший на Родине. Я люблю его так, как туристы — горячий Восток, Пожирая червей в пятизвёздном отеле за ужином.
Я люблю его так, как любит свой первый цветок Запоздалая девственница, мечтающая о муже. Я люблю его так, как сверканье короны — тиран, Как принцессы — себя, как летящие деньги — нищие.

Я люблю его так, как седой мусульманин — Коран, Как художник — холсты, как голодный — тарелку с пищею. Я люблю его так, как свободная птица — крыло, Как глубины — моллюск, и как уж — свою узкую трещину. Я люблю его так, как бездомные дети — тепло. Я люблю его так, как простая земная женщина. Он может загнутым быть весьма, И отличаться цветом. Может — прямым, и Прутков Козьма Что-то писал об этом! Также бывает мохнат, ребрист, В юных годах обрезан.
После мытья он обычно чист, Вздернут и чуть помпезен. У «моего» он торчком, смешной! Где-то на четверть метра… Любит! Арто, за мной! Дама с собачкой! И я руки сомкну под твоим пальто, Вроде как на законном месте. Под рубцом забинтованная бинтом Богом созданная невеста. Он вышел и где-то стоял: далеко, но рядом, И номер его мой мобильный хранил в груди. Но, видимо, я надевала не те наряды, Не знала, что делать в разгаре, внутри, среди…. Он вышел из сини, но в мой не причалил портик, Он вышел из сини и в эту же синь ушел.
А юнга метал свой матросский погнутый кортик В высокие мачты, что красный держали шёлк. А куда ни беги, Это социум — ты обречён В грубом мире локтей обучиться искусству толканья. А куда ни беги, Понадеясь на чьё-то плечо, Можно больно упасть и разбиться об острые камни. А куда ни беги, Слишком суетно, слишком большой Спрос на быстрые деньги и лёгкое счастье в наследство. А куда ни беги, Кто-то эту ячейку нашёл За момент до тебя — привыкай к непростому соседству.
А куда ни беги, Мир заполнен и держит в зубах Голубую мечту, словно вырезку лев в зоопарке. А куда ни беги, От пелёнки до плюша в гробах Можно корчить принцессу с руками прожженной кухарки. А куда ни беги, Всё равно от себя не сбежать: Чипы встроены, совесть найдёт оправданье инстинкту. А куда ни беги, Ощущая азарт дележа, Могут палец отнять за кольцо с бутафорской блестинкой.
Но куда ни беги, Будь добрее и чаще прощай Недолюбленных женщин и недомедаленных воинов. И куда ни беги, Даже если бежишь натощак, Не бросайся на пищу пусть с лёгким, но признаком… вони! Будьте трепетны к Миру - Он так удивительно свеж, И так почвы его ожидают весеннее семя.
Будьте трепетны чаще: во всех областях и со всеми. Будьте трепетны к Миру - Мы — дети, а Он — наш манеж. Будьте трепетны к Миру, А Он воплощён в мелочах: В необидье обид и в непамяти памятных кличек. Будьте трепетны к Миру — он тоже страдал от отмычек. Будьте трепетны к Миру,. Всё хорошо. И, конечно, сложится Всё. Пояса затужены. Я, часовых поясов заложница, Сяду обедать, когда ты — ужинать. Осень чудесна континентальная.
Осень чудесно-единовременна. Есть пояса, да не видно талии - Вечно планета моя беременна. Листья разносит по побережию, Листья резные… с твоим бы профилем… Быть мне хотя бы немного смежною - Хоть секретаршею с черным кофеем. Или тебе… да куда нам… Разные Зрители, сцены, софиты, реплики.
Осенью листья такие красные. А совпаденья такие… редкие…. Можно синхронно с твоими стрелками Бегать по кругу лошадкой чёрною.
Кто одержим, тот не терпит мелкого. А одержимые — обреченные. Юность волшебна — любой гарсон Сказочным принцем чудится. Что же мне нужно? В небе агентство трудится. Зрелость отрадна — кладет свой блик Месяц на город маленький.
Кто же мне нужен? Для заполненья спаленки. Запрограммирован алгоритм - Бейсик — язык классический: If not, then go to… в строке лимит Тридцать — предел критический. Хочется воду лакать с лица, В зарослях слушать иволгу.
Девочки ищут во всём отца! Может, расширить выборку? Юля настоящее имя поэтессы - Юлия Соломонова. Кто был вашей первой аудиторией? Стихи я начала писать в шесть лет, научил меня папа. Он показал, что есть ритм, а есть рифма, и можно складывать слова в озорные четверостишия на разные темы.
Мы так баловались. Сначала писали про фломастеры, потом про маленького мальчика , а потом я прочла эти стихи на семейном застолье и сорвала овации. С тех пор я пишу почти каждый день.
В школе переделывала академическую программу, используя нехорошие слова, и на переменах веселила одноклассников, в театральном писала для капустников, в самые сложные периоды жизни писала для снятия стресса, в стол или в сеть. В какой момент и почему вы решили сделать стихи своей основной профессией? Насколько известно, у вас несколько высших образований: менеджмент, два режиссерских - одно из которых ВГИК.
Вы даже успели поучиться в голливудской киношколе! Почему стихи и куда делась любовь к режиссуре? Так получилось. Я всегда писала стихи и никогда не придавала этому большого значения. Был у меня, правда, период, когда я писала поздравления на заказ, но это тоже было несерьезно. Заказчики говорили: "Юля, у тебя такое чувство юмора! Однажды я написала песни для школьного выпускного про всех учителей за одну ночь. За сто долларов. Учителя рыдали.
А вот к режиссуре я всегда относилась трепетно. Я училась много, долго, более семи лет работала на телевидении, режиссером и главным режиссером, ставила спектакли, массовые зрелища, я мечтала о большом кино. Но легкости никогда не было, это был труд, самопожертвование, что угодно, но не баловство. Когда я родила первого ребенка, то на несколько лет ушла в декрет и стала выкладывать свои стихи в соцсети: "Я поэт, зовусь я Цветик, я пишу стихи в соцсети".
Однажды мой муж узнал, что у меня подписчиков ВКонтакте, удивился и сказал, что это круто и нужно обязательно издать книгу. Когда я вышла из второго декрета, я поставила небольшой спектакль по своим стихам,опубликовала объявление, и ко мне пришли зрители. Это были настоящие живые зрители, самые замечательные, о которых я мечтала в театральном и во ВГИКе, и они пришли послушать мои стихи. Поэтому я Юля-режиссер теперь работаю у Солы-поэта. Первое лето мы, как и всю жизнь до этого, жили с нянечкой в своем мире.
Летом го я — несомненно, жизнь — возможно, стали значительно хуже. С внешней стороны вроде бы стало лучше. Куда ни взгляни, танцевали Уланова и Вечеслова [6] , тогда — еще полная пара в балетном духе.
Татьяна Михайловна Вечеслова писала комические поэмы, устраивала то, что теперь называли бы хэппенингом, очаровывала меня и всех, кроме двух-трех дам; Уланову, кроме как в танцах, почти и не видели. Но это, я думаю, давно и подробно рассказано в истории балета. Чем плох подросток, тоже описано. Я и страшно смущалась, и мечтала блистать — в общем, сами знаете. Главное, видела прежде всего себя и описывать то, что было, просто не решаюсь.
Скажу только, что девочки постарше открыли мне «всем известный факт», попросту — промискуитет. Это было жутко, но не только.
Почему-то к «этому» никак не относилось то, что еще в первое лето в доме В. В Ленинград В. Летом го мы одновременно проезжали через Москву и с ней связаны чуть ли не самые четкие воспоминания: выставка Павла Корина, портрет «Тимоши» Н. Пешковой , визит — именно визит — в горьковский дом, где я познакомилась с Валей Берестовым и услышала от него «Стихи о неизвестном солдате». Когда мы все приехали в Питер — наверное, не сразу — дела у В.
Вроде бы она была не самым «левым» художником; во всяком случае, портреты и театр свидетельствуют скорее о чем-то относительно «правом». Но года с го ленинградская жизнь стала такой, что теперь и не поверишь. Когда умер Басов, В. Речь шла даже о верховой езде. Были и сведения о науках, особенно — о физике. И действительно, виделась она в Москве не только с женами «прикормленной верхушки», но и с семьей Капиц.
Вот и суди, кто как жил «при Советах»! Нинимуша постоянно бежала из вымерзшего Питера в эту, человеческую, жизнь. Почему-то года два она прожила у нас — кажется, ремонтировали дом на Миллионной.
Мамину комнату занял Шива, он сидел на бабушкином комоде; были и слоны. Но сама В. Смотреть его без наркоза не стоило, особенно тогда. Я посмотрела, и с трудом очухивалась, когда В. Особенно понравилось ей движение героини, припавшей к плечу Бориса Андреева; она даже это показала. В общем, судя по всему, силы ее кончались. Когда весной го май мы переехали в Москву, стала «меняться» и она.
Помню, был даже замысел обменять обе наши квартиры на огромную в Москве, и ее нашли, но склонному к шикарности папе не понравился адрес-за Таганкой кажется, Воронцов-ская улица. Когда мы с ней и с мамой были там, хозяйка по-моему, Масловская рассказала, что знает квартиру на Миллионной, мало того — уверена, что там есть тайник. Вскоре я уехала в Литву и, приезжая, у нее бывала. Мои дети тоже ходили к ней и сидели на слонах.
Что она делала, как выживала, совсем не знаю; зато часто слышала, что ее беспробудно травит соседка. В году, кажется — после такого скандала, В.
После того, как молодой еврей, недавно приехавший из Одессы, познакомился у Валентины Ходасевич с ушедшей от мужа юной дамой, он несколько лет крутил с ней роман, и вдруг она забеременела. Чадолюбие Иакова сработало мгновенно. Он переселил ее к своим родителям, причем умный и печальный отец с ней подружился, а крикливая и властная мать твердо сказала, что девочку будут звать или Руфь, или Елизавета, в честь покойных прабабушек.
Руфь — дивное имя, но все же непривычное, а вот чем плоха Елизавета, я понять не могу. Молодого отца вполне законно звали Леонидом, но как-то по-священному — Елеазаром. Не знаю, когда оно дается — при обрезании, что ли?
Но не в этом суть; очень уж подходит к Елизавете такое отчество. Красота «Руфи» и «Елизаветы» не давала ей покоя. Первую из фарфоровых кукол она назвала Руфью. Вторую, покрупнее — Изабеллой, узнав от образованного деда, Захара Давыдовича, что это и есть «Елизавета» по-испански.
Намного позже выяснилось, что у испанцев все-таки «Исавель». Потом появилась кукла леди Джейн, носившая древнее иудейское имя, которое больше чем через полвека стало монашеским именем Натальи. Но что имена! Маминой семье скорее украинской, чем русской удалось сотворить чудо. Сколько я себя помню, я знала, что быть в родстве с царями [7] , апостолами и уж тем паче Девой Марией не только хорошо, но еще и красиво — это вроде самоцветов пресвитера Иоанна или роз на картине.
Буржуазный быт папиных родителей — гобелен по Семирадскому, бронзовые бюсты, горки, весь набор Belle epoque — представлялся мне темной пурпурной роскошью библейских чертогов.
Как мама ни возмущалась, я люблю это до сих пор. Чтобы вернее было, нянечка умиленно приговаривала: «Израиль Божий, Израиль Божий…» Однако еще сильнее действовали на меня строки о царе Давиде и всей кротости его. Представить только: тихий Питер, снег, дрова — а рядом красота, кротость и мудрость Святой Земли. Так я и жила, не зная кощунственной нелюбви к царям и пророкам Писания. Конечно, она никуда не девалась, но «у приличных людей», то есть просвещенных христиан, ее считали непристойной.
Вообще-то все сложнее; для Чехова, скажем, это было не так просто, но набожные и порядочные люди обычно юдофобства стыдились. Что же до советской квазиинтеллигенции, тогда еще довольно образованной, эллин и иудей смешались полностью. И вот — лето го. В Алма-Ату приехал Маршак, и киевского беженца, шестнадцатилетнего Моню Недзвецкого, пригретого киностудией, послали к нему.
Я с Моней дружила и пошла вместе с ним. Слова, которыми нас окатили, в отличие от Мони, не были мне знакомы, который тогда и узнал, что моя украинская родня — в оккупации.
Узнав, он очень растерялся, и это еще мягко сказано. Почти вслед за этим приехал Большаков, нарком кинематографии. Сквозь сон я услышала сперва, как он кричит на папу, а потом — как кричит уже мама, объясняя своему бедному мужу, что нельзя лебезить, и иллюстрируя это положение стихами: «Ходит Мой-шаходором перед паном Хвёдором». Лет через двенадцать я снова услышала их от Симы Маркиша, но в другой тональности, с отчаянием.
Пропущу блистательную пору университета — , январь го и еще более страшные месяцы го, и четыре года, которые сами по себе должны были начисто сбивать ностальгию. Сейчас я пишу не мемуары, а что-то другое, и веду к тому, как быть теперь, при религиозной свободе.
Христос заключил с людьми новый договор. Религиозная жизнь, как обычно, оставляла желать лучшего, и Он, как всякий Божий человек, а судя по пророкам — и Бог, от этого страдал. Его не простили: религиозный люд что хочешь простит, кроме этого, — и потребовали казни. Самые близкие к Нему сперва испугались, кроме Иоанна и женщин, потом — крепко покаялись. Так и осталось у нас: предки-апостолы и предки — злая толпа. Дороти Сэйерс резонно предлагала вообразить все это «в наших условиях».
Многие ли потерпят то, что говорил и делал Христос? У нее даже пьесы есть, где это показано. Нет, Его приговорили не какие-то особые гады, а самые обычные «верующие» со всеми их свойствами: всезнанием, нетерпимостью, убежденностью в своей добродетели. Богословствовать я не умею, и не женское это дело. Просто вспомним, какая радость и честь быть в родстве с Марией.
Вспомним и сакральную красоту, и землю в центре мира, и райские сады, которые так точно описал Пушкин. Когда я была в Айн-Каре-ме, невозможно было поверить, что это — здешний мир. Ночью, под Арадом, я читала книгу Додда о притчах Царствия [8] , а утром сидела в маленьком саду, совсем уж из Песни Песней. Сейчас мне предложили опять туда поехать, но с чем-то довольно ученым. Этого бы мне не хотелось, не для того Святая Земля.
Уговорить никого нельзя, все всё знают. Что ж, остаются молитва и жертва, их всегда хватало. Если же кому-то надоел глупый диалог глухих, может быть, пробьет глухоту мольба о не ведающих, что творят, и глава из Римлян, и тайна служителя Ягве? Ты творишь ангелами Твоими духов, Служителями Твоими — огонь пылающий.

Когда мне было двадцать пять лет и мы первую зиму жили в Москве, моя бедная мама решила взяться за дело. Еще в Питере, смущенная тем, что я не могу или не хочу отъесть голову у шоколадного зайца, она срочно вызвала психиатра, и они порешили на том, что я в раннем детстве упала с качелей.
Тут пошли беды, скажем — космополитизм, и стало не до того. Каким-то чудом ей удалось зазвать домой Вольфа Мессинга. Узнав, что я много плачу, боюсь советской власти и верю в Бога, не говоря уж о зайцах с головами, он долго сидел и смотрел, а я отчаянно молилась. Потом он сказал примерно так:. Во-вторых, если бы кто и сделал, было бы гораздо хуже. Не бойтесь, все будет хорошо. Еще лет через двадцать, а то и тридцать, на днях, одна женщина иудаистка поведала мне, что Мессинг был раввином.
Стоял май года. Англичане отдали Святую Землю дому Иакова. Мы, филологи-англофилы, понеслись на лекцию, кажется — Тарле. О, Георг V, о, генерал Алленби! Прибегаем, и я вижу папину тетю Розу в черных кружевах со стайкой таких же скорбных и торжественных женщин.
Седая после блокады, она все-таки до тех пор была для меня рыжей врачихой, напевающей арии из оперетт.

Но вот, сидит, очень похожая на портрет своей матери Руфи, видит меня, обнимает и сообщает соратницам: «Моя внучка тоже пришла». Просто не помню, что я делала — во всяком случае, не возразила, хотя было мне стыдно перед ней.
До конца лекции Розалия Рахиль Соломоновна тихо и гордо плакала. Так я узнала, среди прочего, что она верит в Бога, не иначе как молитвами покойного отца-хасида, моего прадедушки, а может — и моей крестной православной, естественно , с которой поселилась в блокаду, уйдя из Царского Села. Многое случилось потом.
Папа стал космополитом. Роза лет через двадцать очень тихо отошла. Наступило и время, когда я смогла поехать на Святую Землю, — весна го, обе Пасхи. Там я должна была, среди прочего, отнести поэтессе, которую зовут Хамуталь бар Иаакоб, перевод ее стихов, от Ольги Александровны Седаковой. Она попросила меня рассказать о космополитах. Помню я это лучше, чем прошлый месяц, и стала рассказывать.
Естественно, я часто сообщала, что после таких-то и таких-то бед я молилась или пошла в храм. Хамуталь наконец спросила: неужели у нас была община?
Судя по Розалии Соломоновне, наверное, была, но я ходила не туда. Объяснила ей это, а она удивилась — что же я примазываюсь? И по крещению, и по галахе я — не еврейка.
Тут я возопила, и настолько, что она одумалась. А вообще, зачем вопить — это же дар: ты всюду чужая! Позже, в самолете, беру журнал и вижу слова Бен-Гуриона, примерно такие: кто страдал с евреями, тот еврей. Ну, страдала не только я — но страдание, действительно, крепче всего. Честь поношения вместе с Иаковом выпадала мне и дома.
Стоило уставиться вдаль, как мама махала рукой у меня перед глазами и причитала: «Что ты смотришь, как тетя Роза?!
Как-то Эйзенштейн вздумал снять меня в роли юной Анастасии. Мама спросила, куда он денет еврейскую скорбь. Он легкомысленно ответил: «Выдадим за византийскую». Летом года кинорежиссеры, актеры, операторы переехали из коммуналок в очень хороший дом. Вообще-то он был странный: на двухэтажное строение с колоннами у полукруглого входа поставили три этажа в стиле конструктивизма, с низкими потолками и широкими окнами.
На первом из этих этажей то есть на третьем жили Гарин и Локшина, на втором четвертом — мы и Юткевичи, на третьем пятом — Арнштамы. Других я почти не помню, кроме немолодого бутафора, который для меня был лучше всех. Вот уж, поистине, рождественский рай в духе Андерсена или Гофмана!
Особенно нравились мне большие яблоки из папье-маше. Вскоре семьи начали делиться. Уехал Юткевич, оставив прелестную Шатерникову с дочкой Марьяной и няней Женей. Я хорошо помню, как Женя с Машей на руках стоит у тех самых колонн, уподобляясь картинке из английских детских книжек, которые я тогда читала, а теперь — перевожу. Арнштам оставил Веру Костровицкую, к которой мама посылала меня учиться балету, но я пряталась в странном, заросшем мхом, леднике, который был выкопан во дворе.
Утвердив преданность слову и только слову, я непрерывно читала. Теперь, в эпилоге детской повести, начинавшейся тогда, часто спрашивают, каким был тот или этот режиссер, актер, оператор. Вышло так, что я их знала, а они создавали «классику советского кино». Спрашивающие делятся на восторженных и обличающих. Через много лет, еще не в эпилоге, но близко к нему, я бывала и даже жила в Доме ветеранов кино, в Матвеевке.
Его обитатели большей частью жаловались, не замечая, что напротив, в доме престарелых, мрут старики. Среди обитателей были и «классики». Хотела бы я знать, что запели бы обличающие, увидев их в слабости и обиде.
Насчет обиды есть разные мнения, часто но не всегда! Слава Богу, я видела в слабости тех, кто помогал создавать советский миф.
Собственно говоря, это был не первый раз — некоторых я близко знала в более страшное время. И мой отец, и тот же Юткевич, и Михаил Юрьевич Блейман были космополитами. Рошаль и Пудовкин ими не были, равно как Эрмлер и Козинцев, но я, можно сказать, дружила скорее с первыми двумя, хотя они космополитов обличили не «обличали», поскольку случилось это один раз.
Рошаль и Строева были добры и гостеприимны, летом го я жила у них в Москве, а родители, видимо, не знали о выступлении Григория Львовича, и все сошло гладко.
Со Всеволодом Илларионовичем получилось иначе. Начался или шел? Я гостила у Гариных. Был последний семестр пятого курса, можно задержаться ехать в Питер я боялась — «коллегия» прошла, когда я уже была в Москве. Я знала, что наши профессора — Пропп, Шишмарев, Жирмунский — только пожалеют меня, и из студентов почти никто не отшатнется, но тогда были совершеннейшие джунгли, и мы ожидали опасности откуда угодно.
Действительно, профессора стали ко мне еще добрее, студенты — кто как, но удар пришелся на другое место: в апреле посадили Илью Сермана с женой, моей близкой подругой, летом — братьев Гуковских медиевист Матвей Александрович был моим любимым учителем. Итак, сижу, больная от страха. Эраст Павлович и Хеся Александровна куда-то ушли, дома — Елена Ти-товна, домработница, называвшая Хесю «Кисой», а знакомого армянина — «глупым евреем».
Раздается звонок, вбегает Пудовкин и кричит: «Наталья, я предал Леонида! Он уходит. Хеся Александровна, вернувшись, ругает меня, Эраст Павлович — нет. Как удобно распределять роли на суде! Как-никак я видела «классиков» в двух житейских ситуациях: на Большой Пушкарской и в Алма-Ате. Надо бы выделить и Эйзенштейна как гения, но вот уже больше шестидесяти лет я не понимаю, каким он был.
Одно сравнительно ясно: кроме него, никто из режиссеров не вышел из подросткового возраста. Я упрощаю; Георгий Михайлович Козинцев был похож на печального мудреца и нервного студента, Георгий Николаевич Васильев — на джентльмена и офицера.
Кстати, именно их я очень любила и тесно дружила с женой потом — вдовой Георгия Николаевича, Леночкой. Что же проистекает из этих замечаний о возрасте? Я толком не знаю. Может быть, то, что с подростка нельзя много спрашивать. Но тут мы попадаем в ловушку, из которой не выбраться, пока делишь мир надвое.
Зато при аристотелевом или томистском делении что-то получится. Опасностей — две, первая: вины вообще не бывает, поскольку зло и добро — то ли произвольны, то ли нереальны; вторая: зло и добро существуют, а значит — бей злодея.
Видите, слово «злодей» никак не напишешь без цветаевской черточки. Смешно, в конце концов, применять его к вечно острящим, вроде бы нормальным, людям, жившим на Пушкарской и в «лауреатнике»! Церковный народ с превеликой легкостью назидает: «Люби грешника, но не грех», и чрезвычайно редко выносит это в жизнь.
Написала «лауреатник» — и сразу увидела тех, к кому это все вообще неприменимо: Веру Ивановну Жакову; художника Суворова с семьей; фотографа Бохонова; другого художника, Энея. Сюда же отнесем Москвина. Может быть, людей, владеющих ремеслом, судить и не за что? Недавно Ольга Седакова приводила их в пример, делая доклад о «незаметном сопротивлении». Но важно или неважно, чему это ремесло служит? Задача для католических казуистов, они очень любят такие разбирательства и уточнения.
А что актеры? Ведь их связь — теснее, они почти превращаются в своих героев. Кстати, среди них были исключительно хорошие люди — помогавший многим Черкасов он даже вызволил из лагеря Л.
О Раневской не говорю, жития написаны, иногда — в ущерб ее великолепному хулиганству. Елену Александровну Кузьмину я знала намного меньше, но казалась она никак не «киношной дамой».
Николаевна Кошеверова дамой казалась и была, но в самом лучшем смысле слова. Когда она совсем состарилась, Сергей Сергеевич Аверинцев увидел ее у нас, в Москве, и спросил: «Кто эта прекрасная петербургская дама? Зачем я все это пишу? Чтобы «их» пощадили, точнее — пожалели? Это бывает редко. Смотрите, что творится сейчас: погромы и поджоги из-за карикатур вызывают даже какое-то уважение: у людей есть что-то святое.
При чем тут «святое»? Задело тебя кощунство — печалься, молись, на худой конец говори. Однако, судя по недавним историям, это недоступно даже христианам. Не разоряешь выставку? Значит, тебе на святое плевать. Так и есть. Пиши — не пиши, очень многим совершенно ясно: если что-то причиняет боль, ты должен с этим бороться — внешне, действием, без пощады.
Смотрим экранизацию «Дуэли» или даже читаем Чехова, находим там: «Никто не знает всей правды» — и остаемся при своем. Вероятно, мы всю правду знаем, особенно если ходим в церковь, а что в Евангелии написано, это ненужные сложности.
И последнее: я решилась писать об этом потому, что мне довелось и быть внутри, и смотреть извне. Недавно один мой ученик назвал это по другому поводу «эффектом дочери Эйхмана». Пожалуйста, не ужасайтесь. Я знаю, что наши бедные киношники на самый худой конец старались быть первыми учениками. Жизнь людей от них не зависела; правда, зависело сознание.
Вероятно, почти никто из них не ведал, что творит разве что бедный Сергей Михайлович? Но не буду ходить по кругу. У кого есть уши — есть, у кого их нет — то и нет. Есть на свете фильм «Одна». Вообще-то, он немой, но это год в нем звучат и слова: «Какая хорошая будет жизнь! Сюжет несложен, но глуп: молодая учительница хочет счастливо жить, выйдя замуж, но ее посылают на Алтай, где она отчасти борется с кулаками и шаманами, отчасти тяжело болеет. Надо сказать, Елена Кузьмина была очень хороша в этой роли.
Ради звука, тогда — полного новшества, Шостакович написал для фильма песенку, но ее запретили за легкомыслие. Вот слова:. Кончен, кончен техникум, кончена учеба! Я живу наверху большого небоскреба. В небоскребе этом целых пять этажей, в каждом этаже магазин ТэЖэ [11]. ТэЖэ порошком чищу зубы, гребешком причешусь, и без помады свежи губы [12]. Два доклада предстоит еще мне сдать, надо, надо подчитать снова-заново Пле-ха-но-ва [13] сороквосемнадцатый том.
Том, том, том, а что кругом? Боле ничего. Поехали на Алтай, побыли там, вернулись. Папа привез рассказ о том, что песенку «Ich kuesse Ihre Hand, Madame» [15] алтайцы совершенно серьезно истолковали как «Иркутский хулиган, мадам». Вряд ли я это поняла в два года, а вот меховую куклу вроде бибабо полюбила на всю жизнь. Назвали ее Епишей. Бабушка и нянечка никогда не допустили бы шуток над священным саном; вероятно, это был Епифан. И точно, ей ему? Епишу я ставила выше моих фарфоровых кукол, он все-таки он воплощал мечту о кенозисе: серенький, из козьего меха, с синими стеклянными глазами, на бурой в крапинку подкладке.
Про него складывались истории: он упал в суп; он потерялся и нашелся; его попытались выкупать. Осенью го он приехал со мной в Алма-Ату и прожил там почти три года, а летом го, на пути в Питер, в Москве, отпраздновал мое шестнадцатилетие. Прошло еще шестьдесят лет с небольшим. Епиша очень одряхлел, у него почти исчезли уши. Уже совсем невозможно понять, собачка он или заяц.
Шкурка истрепалась настолько, что еще мои дети завернули его в плащ. Сидит он на полке, в уголке, между детской Библией и корзинкой, в которую мы кладем то сухие хлебцы, то бананы. Наверное, ему лет восемьдесят, не для папы же его сшили в году. Судя по рассказам, мама познакомилась с Аби в году. Он был турок, художник, один из тех интеллигентов, которые поверили мифам об осуществившейся мечте.
Поверил и Малькольм Маггридж, молодой английский журналист, но пожил в Москве и навсегда эту веру утратил. Правда, я ничего не знаю о более поздних взглядах Абиддина Дино. Почему-то поехал он в Питер, а там прямиком вышел на кинорежиссера Юткевича и актера Эраста Гарина, который собрался сам ставить фильм по гоголевской «Женитьбе».
Гарин немедленно взял его художником, и они настолько не заметили «великого перелома», что открыто восхищались крайне дикими эскизами. Надо ли говорить, что о России времен Николая I Абиддин ничего не знал, но это его не останавливало.
Мне было шесть лет, и я хорошо помню причудливую барышню с воланом, которой, кстати сказать, в «Женитьбе» нет. Поскольку мы жили в том же доме, что и Гарины, и Юткевич, мятежный турок тут же познакомился с нашей семьей. Мама, с внешностью Марлен Дитрих, ему очень понравилась. Прекрасно знавшая папины повадки и, наверное, уставшая верить, что так и надо у молодых, свободных людей, она довольно скоро решила к нему уйти.
Нянечка, истинный ангел, не то чтобы упрекнула для нее у мамы был один муж, первый, с которым она венчалась , но все же выразила почти научное мнение: «Сперва поляк, потом еврей, теперь турка, так ты и до негра дойдешь». Безотказное чутье подсказало ей, что бедных bright young things [16] той поры неудержимо тянуло на юг, к джазу. Кто именно был поляк, не знаю — то ли Куровский, тот самый муж, то ли Станислав Радзинский, мамин московский приятель, отец писателя.
Закончу небольшой «самой жизнью»: за девяносто, совсем лежачая, мама рассказала нам, что Куровский — внук католика, принявшего православие ради женитьбы. Вот где корни зла!
Прямо как у Грэма Грина. По жестким канонам богемы Аби постоянно сидел у нас. Лицом он был похож на орех, а так — очень изящный и по-западному элегантный. Тогда я причисляла его к многочисленным гостям и не беспокоилась; а мама тем временем узнавала вместе с ним, как уехать во Францию. Папа вел себя даже лучше, чем предписывали каноны, — он жалел ее. Конечно, узнала я обо всем этом через десять с лишним лет, уже студенткой. Теперь — чудо и загадка. В конце года Аби настоятельно посоветовали уехать.
О разрешении для мамы не могло быть и речи. Однако она отправилась с ним в Москву, мало того — была во французском посольстве. Он уехал, а ее не посадили. Я много жаловалась на мамину властность, но готова поклясться, что она не была к нему «приставлена». Слишком она простодушна и слишком порядочна. Что там, мне сильно влетало, когда я просто здоровалась с такими людьми.
Летом года отец поместил нас с няней в сестрорецкий [17] санаторий «Инснаб». Они существовали, скажем — бостонский инженер с женой и дочерью; были и полярник Самоилович, и академик Щербацкий. Почему еще не привилегированному киношнику удалось сунуть туда нас, могу объяснить только блатом, не знаю уж каким. Стоит сказать, что миф о позднейшем его происхождении не выдерживает никакой критики.
Видимо, блат процветал с НЭПа, если не раньше. Нет, конечно, раньше! Словом, живем мы, но уже — не в комнате, а в каком-то домике, на птичьих правах. Вдруг врывается человек в форме и, громко крича, нас выгоняет. Нянечка тихо собирается, а я схожу с ума.
Слава Богу, детей тогда не таскали по психиатрам, да родителей, кажется, и не было. Мы провели месяц, не меньше, в летнем Питере. Нянечка молилась, я пребывала в ступоре, а когда получше — плакала. Наверное, бабушка была на Украине и молилась там. Папины родители тоже куда-то делись. Наконец оказалось, что бабушкина приятельница Антонина Карловна, немка и лютеранка, согласна принять нас до любого времени.
У нее был домик в Ольгино [18] , а при домике — сад. Там я и очнулась, точно по Честертону: «приходит в себя в розовом саду». Розы росли и посередине куст с зеркальным шаром внутри [19] , и у изгороди. В левом переднем углу был прудик с маленькими лягушками, чуть ближе — гамак. Несколько лет назад в Сассексе, славящемся садами, я зашла в один из них и узнала тот, ольгинский.
Были мы с отцом Сергием Гаккелем. Так и вышло, что он услышал рассказ о моем обращении. Что ни говори, случилось оно в Ольгино. Меня и раньше водили в церковь — я попадала в золотое пространство, старушки дарили мне конфеты, вот и всё. К феям и ангелам, как всякий ребенок, я с той же легкостью переходила у себя в детской, а пока ее не было — на кухне коммунальной квартиры, где разгуливал внизу, на моем уровне, пестрый кот Тимка.
Словом, в августе, на первый Спас или на Преображение, я шла с нянечкой в ольгинскую церковь. Почему-то на мне вместо кофточки была батистовая крестильная рубашка, которую специально сшила знаменитая питерская белошвейка Анна Ивановна Опекунова. Когда я родилась, был НЭП, она еще шила на заказ, но для бабушки сделала бы и позже. В этой рубашке крестились мои дети, часть внуков и дети друзей сейчас я нашла ее в шкафу и дала для правнука.
Когда меня спрашивают, с какого времени я верю в Бога, я называю это лето, точнее — рубеж июля и августа. Писать о том, что случилось внутри — и невозможно, и неприлично. Летом года отец явно испугался, что я не смогу ужиться в школе. Сперва он приехал на дачу, в Лисий Нос [20] , и стал петь песни Дунаевского.
Я их боялась. Кое-как вынесла видимо, из-за «народности» только «Полюшко-поле», которое написал кто-то другой. Бравурность для нас с нянечкой была в том же ряду, что и бойкость. Папа задумался. Перед первым сентября он позвал меня к своему письменному столу и долго назидал. Я сжалась. Однако нянечка школой меня не пугала, бабушки в Питере не было, и первый день мне понравился.
Марфа Павловна преподавала еще в приготовительных классах гимназии, но, в отличие от героической Марии Петровны, осталась в школе. Она была веселая и добрая. При ней — целых два года — читали Никитина и Майкова, Алексея К.
Толстого, еще кого-то в этом духе. Старым и милым был учитель рисования. Дети, конечно, собрались разные, но я не чувствовала себя монстром и дружила со всеми — от худого хулигана до внучки академика Павлова.
Сентиментальность могла меня спасти, если бы в третьем классе не пришла Пелагея Петровна, подобная партийной начальнице. Дети тоже изменились: кто-то из девочек обрел стервозность, кто-то — слащавость, а чаще, как вообще у женщин, — и то, и другое. Я этого толком не понимала, но часто плакала. У Эры и Люси посадили отцов, когда мы учились в первом или втором классе. Бабушка и нянечка тут же попросили о них молиться, а Марфа Павловна и ученики были с ними точно такими, как раньше.
Люся вскоре уехала. Через шестьдесят лет она меня отыскала прочитав беседу в газете и сказала, что кто-то из моей семьи не впустил ее, когда мы вместе пришли к нам. Просто представить не могу, кто! Мама всегда поддерживала «жен», бабушка с нянечкой — тем более. Папа — не знаю, хотя сосланной дочке Тернавцева он то ли посылал деньги, то ли давал работу какую? Но, по Люсиным словам, это была женщина. Не иначе как одна из маминых подруг — опять же, не Валентина Ходасевич, не Люсик Атаманова, не Люба Сена или старая большевичка Роза, сама сгинувшая в ту пору.
Но пишу я о другом. Уже в третьем классе я стала много болеть, а в четвертом почти не вставала. Кто-то заговорил при маме, что дворяне XIX века часто учились дома, и она сразу же поставила на домашнее образование. Прецедентов тогда не было, просто я болела и, к маминому восторгу, сдала три класса за два года четвертый, пятый, шестой. Тем самым, в Алма-Ате пошла я в седьмой.
Была это третья смена. Урока, на который я попала, забыть нельзя, особенно когда при мне разводят ностальгию. Учитель географии, худенький и интеллигентный, почти плакал. Ребята орали, швырялись чем-то друг в друга, не в него , поворачивались задом, был и мат. Удивилась я и тому, что некий Волька по возрасту подходил скорее к десятому классу, а юноша по прозвищу Зам был точно таким, какими я представляла воров.
Проплакав с неделю, я сдалась и, в привычном малодушии, перестала учиться. Это «их» даже привлекло, равно как и странность такой барышни; но, когда я засела дома с фурункулезом, мама узнала мои отметки, сплошные двойки, и забрала из школы навсегда. До отъезда лето го я кончила на радостях весь курс — седьмой, восьмой, девятый и десятый классы.
Правда, из их «Саломейки», английской школы со всякими штуками, сын ухитрился вылететь, так как написал на портфеле: «Русские, вон из Литвы! Однако и это обошлось, он стал учиться экстерном потом опять пошел в школу. Конечно, девочки бывали всякие — и маленькие бабы, и маленькие дамы, но Марюс, Римис, Жильвинас, Ромас двоюродный внук Чюрлениса , уже покойная Вега подружились с Марией и Томасом навсегда.
С демократическим идиотизмом я гордо пошла с ней в близлежащую, районную школу. Вскоре она стала прогуливать. Меня вызвали; уборщица не разрешила войти без сменной обуви и погнала мыть в луже резиновые сапоги под хохот старшеклассников. Мои подруги тем временем наперебой рассказывали о романах, пьянстве, абортах и т.
Господи, да вспомните фильм начала перестройки про мальчика, который решил насаждать добро кулаками! Больше писать не стоит; всем известно, что при Советах цвела добродетель. Остальные, хоть и не развивают гордыни, ужасны, но не хуже, я думаю, алма-атинской и матвеевской. Мои непосредственные предки мыслили и действовали по-разному. Возьмем женщин, поскольку я их гораздо чаще видела. Сочетание таких взглядов и свойств не давало мне разгуляться. Благоговейный трепет, видимо — нестойкий, поддерживался самым простым, раздавливающим страхом.
Страх этот очень мучителен и очень опасен. Иногда он приводит к желанию кого-нибудь запугать, иногда — к постоянному вранью, иногда — к слабоумию. Наверное, бывает все это сразу. Но у нас что-то на что-то перемножилось, должно быть-указанные свойства старших на нянечкины и бабушкины молитвы. Отчасти я стала Башмачкиным, отчасти запомнила, что своеволие — грех сам Акакий Акакиевич этого не знал.
Что же делать, как создать для детей такой новициат? Слова — пусты, пример — тоже только для тех, у кого прорезалось зрение. Лучше бы сиять, но, во-первых, этого мало, а во-вторых, пока худо-бедно засияешь, у тебя будут правнуки. Кроме того, мы слишком часто пытаемся выдать за сияние ту мерзкую слащавость, которой дети не выносят. Теперь, когда так долго не было понятия греха, а потом за грех стали принимать что угодно, кроме себялюбия и своеволия, надо все начинать заново.
Как это сделать с прочно взявшими власть детьми, я просто не знаю. Никакие новициаты мне не помогли это сделать, скорее — помешали, если учитывать только уровень земли. Знает томист, что если перегнуть в одну сторону, непременно будет откат в другую. Возьмем принуждение и вседозволенность. Давят женщин, негров, детей — и пожалуйста; только ослабь поводок, они рвут его и гуляют на воле. Это бы ничего, издержки чужой свободы гасят христиане тема особая , но немедленно вступает и новое подавление, карикатура на «униженные возвысятся».
Именно это показывает, какой тут источник. Как-никак, diabolus simia Dei [24]. Да, их секли. Когда у нас на «Софии» был «глас народа», мне нередко говорили, что это розги очень хорошо.
Не думаю. Меня не секли, но другие формы репрессивного режима исключительно опасны. Истинное чудо, если жертва не станет тираном или плутом, когда обретет малейшую возможность. Не бей ребенка утюгом, Лопатой, скалкой, сапогом - От этого, бывает, Ребенок захворает. Однако в ordo naturae [25] никак не выйдешь на царский путь.
Повторю то, что часто писала: я не знаю, как воспитывать детей. Вероятно, действует только очень сильное сияние воспитателя — «обрети мир, и тысячи в том числе дети вокруг тебя спасутся»; но поди его обрети до глубочайшей старости, да и во обще.
Остается молитва, по слову сестры Фаустины: «…если невозможно — молись». Но здесь я собралась говорить о новом перегибе. У японцев, слава Тебе, Господи, жизнь — как размеренный ритуал, маленький ребенок не разгуляется; а в нашем хаосе… И вот, получили; образовались два этажа — в одном по-прежнему орут, а психологи спасают детей от тирании [26]. В другом — распускают на всю катушку; тут психологи еще не подключились.
Описанные выше деды, как часто бывает, были репрессивными со своими детьми, вседозволяющи-ми — с внуками. Это бы ничего, так и раньше бывало, но у детей были права. В лучших случаях получалось даже уютно: дома — разумное сдерживание, у дедушки с бабушкой — временный рай. Но если все живут вместе, если детей зарепрессировали вчистую, выходит то, о чем печально сказал тот же Сергей Сергеевич: «Мы попали в зазор между неумолимыми родителями и неуправляемыми детьми».
Что ж, Бог не выдаст. Спросите кого-нибудь, где сердце Петербурга, и вряд ли вам ответят: «На углу Пушкарской и Бармалеевой». Однако для меня это именно так. Там, в самом углу двора, выходящего передом на Пушкарскую, а боком — на Бармалееву, стоял деревянный двухэтажный домик, в котором служили отец Дейбнер и экзарх Леонид Федоров. Оттуда спугнули Юлию Данзас, и она, собрав Дары в передник, поспешила на Лахтинскую, предупреждать отца Леонида. Ничего этого я не знала, когда жила там в детстве [27].
Наш дом, ампирный особняк с надстройкой «Корбюзье для бедных», стоял прямо напротив ворот. В правом ближнем углу, бывшем храме, жили старушки Лукашевич. О Господи, где патер Браун, который разберется в их судьбе! Вряд ли старушки вселились, когда служб уже не было; может быть, они уступили один этаж? Маловероятно и то, что они не были польками или хотя бы литовками. Райский дух их жилья выражался в засушенных цветах, картинах «Времена года», открытках и густой сирени под окном, где мы с нянечкой часто сидели.
После возвращения из Алма-Аты август го ни старушек, ни домика не оказалось, равно как и другого, слева от ворот. Миракль — это миракль, то есть «сама жизнь». Другой домик был намного опасней. Там жило семейство дворника. Его дочка Нина, года на два старше меня, маячила в глубине, пока вдруг, когда мне было лет десять, не стала кумиром. Подумайте сами: с множеством каких-то мальчишек носится по двору, играет в лапту, поет песни про Будённого или про Каховку.
А я читаю свою «Леди Джейн», и, хотя даже в школу хожу, для них меня просто нету. Мгновенно угадав алгоритм, я, как-то к ней подобравшись, стала пересказывать книжки и имела немалый успех.
Почему-то смеяться надо мной так и не собрались, но удивлялись, какие странные у меня бабушки. Крестьянский ангел, нянечка, их не удивил, а крашенная хной одесситка с камеей на груди и строгая церковная дама в слишком длинной юбке казались совсем дикими, хотя вроде бы таких было много. Если вам нужен пример первородного греха, вот он, пожалуйста: очень скоро я уже передразнивала обеих бабушек в узком дворовом кругу. Недалеко было время, когда я начала бы красть. Однако оно не наступило.
Помню, как я проснулась в отгороженном углу комнаты, где жили мы с тетей и одной девочкой. У моего топчанчика стоял белый крашеный стул. На стуле лежала книга, большой но не толстый однотомник. Я раскрыла ее и прочитала:. Свирель запела на мосту, и яблоня в цвету, и ангел поднял в высоту звезду зеленую одну, и стало дивно на мосту смотреть в такую высоту, в такую глубину.
Моя влюбленность в филологию была безоглядной, хотя лет до тридцати, а то и дольше я мало что понимала, странно думала, искаженно видела, постоянно делала глупости, но — читала стихи, почти сразу их запоминая.
Правда, я молилась, но молитва в этом идиотском возрасте так скособочена и замутнена, что без стихов было бы еще хуже. Снова и снова меня спрашивают, пишу ли я мемуары — а какие мемуары, если все перекошено внутри? Что я видела? Да, себя — и судорожно мечтала о чем-то вроде бала Золушки которую тогда снимали , но была и правда — вот эти самые стихи. К лету го я уже знала Ахматову, включая «Поэму без героя» — с голоса, который, как и Блок, принадлежал доброму и мудрому Михаилу Юрьевичу Блейману, чья жизнь заслуживает отдельного рассказа.
Похожий на Фернанделя, нелепый, лет до пятидесяти — холостой, он нянчился со мной не меньше бабушки. Нянечка — и для меня, и для него, и для той же бабушки — была вне конкурса, как ангел. Еще до возвращения в Питер Михаил Юрьевич продиктовал мне довольно много Ходасевича и кое-что из Мандельштама.
Когда мы вернулись, он написал мне из Москвы, чтобы я пошарила в одном из столов; и там оказались «Ламарк», «Неужели я увижу завтра…», еще листочков пять. Чуть позже, на филфаке, читая желающим на память и Мандельштама, и «Поэму без героя», я узнала от Эткинда, Руни Зерновой, Коли Томашевского много других стихов.
Наш преподаватель латыни, Ананий Самой-лович Бобович, спокойно менялся со мной своими листочками; а к переходу на второй курс Козинцев подарил мне розоватую книжечку года.
Она лежала у меня на столе, пока мы не уехали из Питера. Здесь, а может — в Вильнюсе кто-то ее зачитал. Летом года меня настиг дополнительный подарок — английские стихи. Помню, Александр Александрович Смирнов переписал для меня Йейт-са, о яблоках луны и солнца, и я перечитывала этот листочек несколько раз на дню. Что же я, раньше стихов не читала?
Конечно, читала: с бабушкой — Пушкина, Майкова, А. Толстого, с нянечкой — детские и опять же Пушкина. Особенно мы любили «Буря мглою небо кроет» и «Румяной зарею покрылся восток». Что ж, спасибо, что до странных лет юности я не знала стихов с какой-никакой, но отравой. Да я бы их и не восприняла. Бывало и смешное: нам с нянечкой понравился кусочек из Руставели, и мы распевали его на церковный лад:.
Как рубин, уста горели, Лик был светел, как кристалл, Ни один мудрец афинский Красоты такой не знал. Как не узнать Деву Марию, даже если где-то поблизости написано «Тинатин», а в объяснениях -«Тамара»? Наши бедные и молодые «взрослые» подслушали нас и очень веселились. Они-то знали, что правда — в скепсисе и фокстроте; и как ужасно заплатили! С конца го по 6 июня го кстати, день высадки союзников в Нормандии мы жили в эвакуации в Алма-Ате, в двухэтажном новеньком доме, который казахское начальство отвело лауреатам.
Можно назвать его и трехэтажным: был полуподвал, где жили нелауреаты, например, художник Суворов и студийные инженеры. Жены упомянутых лауреатов не скажу какой премии были очень красивы, но нечеловечески наивны.
Среди «иных» сразу выделю умную и здравую Надежду Николаевну Кошеверову, жену оператора Москвина, позже поставившую «Золушку»; хорошенькую и добрую Леночку Васильеву, жену одного из «Чапаевых»; удалую и очаровательную Веру Волчек, уже оставленную своим лауреатом-оператором; наконец, еврейское подобие Ахматовой, прекрасную Эсфирь Ильиничну Шуб. Странные случаи происходили не с ними и пишу я не для обличения, а для подтверждения немыслимых слов: «…не ведают, что творят».
Сидит одна дама в окне, на лице у нее — маска из клубники. Проходит мимо окна Сергей Михайлович Эйзенштейн и говорит: «Спрячьте мордочку, нас подожгут». Убухав туда много яиц, она, однако, не преуспела, куличи не «подошли».
Дамы приглашали маникюршу и косметичку; обе они были с недавно занятых земель, вроде Западной Украины; обе красивые, одна — Любовь, другая — Лидия; обе элегантные, хоть и оборванные. Они приходили подкормиться, но дам этих, как мне казалось, презирали. Откуда ни возьмись, перед домом появился некто, о ком заговорили шепотом: «Адъютант Васи Сталина…» И точно.

Приехал он прилетел, наверное за одной из дам помоложе. Естественно, у нее был муж-лауреат. Еще одна дама одобрительно рассказывала через много лет, что ближайшая ее родственница, оставшаяся в Питере и там скончавшаяся едва ли не в первую зиму, положила ей в багаж столько шелковых чулок, что хватило на все три года.
Чтобы меньше сокрушаться, расскажу напоследок что-то вроде «Романа о Розе». Из ссылки внезапно приехал Сергей Ермолинский, друг Булгакова.
Понравился он нескольким дамам, но его поразила белокурая и несчастливая Софья Магарилл кстати, она, при всей своей красоте, дамских свойств не имела, во всяком случае, дамы ее не любили, а я — не боялась. Они гуляли вместе, ходили, наверное, к речке Алма-Атинке — удивительно красивой. Он заболел тифом, она ухаживала за ним, заболела сама и скончалась. Она вернулась из больницы, выздоравливала, сидела на балконе и вдруг, едва ли не в секунду, умерла. Оказалось, что у нее «капельное сердце».
Сын ее Юрка, учившийся в артиллерийском училище, приехать не успел. Помню, как за полгода до этого мне было пятнадцать мы с ней провожали его на вокзал, и на обратном пути она читала пастернаковские стихи: «Он встал.
В столовой било час. Он знал…» — и так далее. На похоронах ее муж едва ли не случайно шел рядом с молодой, похожей на таитянку женой другого режиссера не из «лауреатника». Через три года она стала его преданной женой и прожила с ним тридцать лет…. Многие помнят еще фильм «Подруги». В нем герои Зои Федоровой и Бориса Чиркова мечтали о том, «какая хорошая будет жизнь». Но, в отличие от героини Елены Кузьминой из фильма «Одна», они имели в виду не дом и не чайник. Предел мечтаний, утопия свободы — в том, что они будут есть только халву и колбасу.
Авторы этих фильмов примерно так и жили. Судить их за то может только тот, кто сам, без принуждения выбрал многокомнатную коммуналку или сырой полуподвал теперь есть люди, не понимающие, что означают эти виды жилья. Я сама с шести лет жила в отдельной квартире, которая до сих пор кажется мне раем.