Джон донн уснул
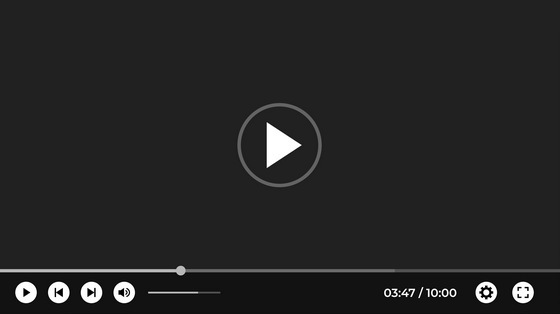
Составитель: К. Спит парусник в порту. VIII Фонтан, изображающий дельфина в открытом море, совершенно сух. Под ним подушкой — чёрный чемоданчик. Тейлора из университета Дарема.
Спят беды все. Страданья крепко спят. Пороки спят. Добро со злом обнялось. Пророки спят. Белесый снегопад в пространстве ищет черных пятен малость. Спят крепко толпы книг. Спят реки слов, покрыты льдом забвенья. Спят речи все, со всею правдой в них. Их цепи спят; чуть-чуть звенят их звенья. Все крепко спят: святые, дьявол, Бог. Их слуги злые. Их друзья. Их дети. И только снег шуршит во тьме дорог.
И больше звуков нет на целом свете. Но чу! Ты слышишь -- там, в холодной тьме, там кто-то плачет, кто-то шепчет в страхе. Там кто-то предоставлен всей зиме. И плачет он. Там кто-то есть во мраке. Так тонок голос.
Тонок, впрямь игла. А нити нет И он так одиноко плывет в снегу. Повсюду холод, мгла Сшивая ночь с рассветом Так высоко! Ты ли, ангел мой, возврата ждешь, под снегом ждешь, как лета, любви моей?.. Во тьме идешь домой. Не ты ль кричишь во мраке?
Грустный хор напомнило мне этих слез звучанье. Не вы ль решились спящий мой собор покинуть вдруг? Не вы ль? Правда, голос твой уж слишком огрублен суровой речью. Не ты ль поник во тьме седой главой и плачешь там? Не ты ль, Господь? Пусть мысль моя дика, но слишком уж высокий голос плачет". Но что ж лишь я один глаза открыл, а всадники своих коней седлают.
В объятьях крепкой тьмы. А гончие уж мчат с небес толпою. Не ты ли, Гавриил, среди зимы рыдаешь тут, один, впотьмах, с трубою? Здесь я одна скорблю в небесной выси о том, что создала своим трудом тяжелые, как цепи, чувства, мысли. Ты с этим грузом мог вершить полет среди страстей, среди грехов, и выше.
Ты птицей был и видел свой народ повсюду, весь, взлетал над скатом крыши. Ты видел все моря, весь дальний край.
И Ад ты зрел -- в себе, а после -- в яви. Ты видел также явно светлый Рай в печальнейшей -- из всех страстей -- оправе. Ты видел: жизнь, она как остров твой. И с Океаном этим ты встречался: со всех сторон лишь тьма, лишь тьма и вой. Ты Бога облетел и вспять помчался. Но этот груз тебя не пустит ввысь, откуда этот мир -- лишь сотня башен да ленты рек, и где, при взгляде вниз, сей страшный суд совсем не страшен. И климат там недвижен, в той стране. Откуда вс? Господь оттуда -- только свет в окне туманной ночью в самом дальнем доме.
Поля бывают. Их не пашет плуг. Года не пашет. И века не пашет. Одни леса стоят стеной вокруг, а только дождь в траве огромной пляшет. Тот первый дровосек, чей тощий конь вбежит туда, плутая в страхе чащей, на сосну взлезши, вдруг узрит огонь в своей долине, там, вдали лежащей.
А здесь неясный край. Спокойный взгляд скользит по дальним крышам. Здесь так светло. Не слышен псиный лай. И колокольный звон совсем не слышен. И он поймет, что вс? Спит ямбов строгий свод. Хореи спят, как стражи, слева, справа. И спит виденье в них летейских вод. И крепко спит за ним другое -- слава. Спят беды все. Страданья крепко спят. Пороки спят. Добро со злом обнялось. Пророки спят. Белесый снегопад в пространстве ищет черных пятен малость.
Спят крепко толпы книг. Спят реки слов, покрыты льдом забвенья. Спят речи все, со всею правдой в них. Их цепи спят; чуть-чуть звенят их звенья. Все крепко спят: святые, дьявол, Бог. Их слуги злые. Их друзья. Их дети. И только снег шуршит во тьме дорог.
И больше звуков нет на целом свете. Но чу! Ты слышишь -- там, в холодной тьме, там кто-то плачет, кто-то шепчет в страхе. Там кто-то предоставлен всей зиме. И плачет он. Там кто-то есть во мраке. Так тонок голос. Тонок, впрямь игла. А нити нет И он так одиноко плывет в снегу. Повсюду холод, мгла Сшивая ночь с рассветом Так высоко! Ты ли, ангел мой, возврата ждешь, под снегом ждешь, как лета, любви моей?.. Во тьме идешь домой.

Не ты ль кричишь во мраке? Грустный хор напомнило мне этих слез звучанье. Не вы ль решились спящий мой собор покинуть вдруг? Не вы ль? Правда, голос твой уж слишком огрублен суровой речью.
Не ты ль поник во тьме седой главой и плачешь там? Не ты ль, Господь? Пусть мысль моя дика, но слишком уж высокий голос плачет". Но что ж лишь я один глаза открыл, а всадники своих коней седлают.
Всё крепко спит. В объятьях крепкой тьмы. А гончие уж мчат с небес толпою. Не ты ли, Гавриил, среди зимы рыдаешь тут, один, впотьмах, с трубою? Здесь я одна скорблю в небесной выси о том, что создала своим трудом тяжелые, как цепи, чувства, мысли.
Ты с этим грузом мог вершить полет среди страстей, среди грехов, и выше. Ты птицей был и видел свой народ повсюду, весь, взлетал над скатом крыши. Ты видел все моря, весь дальний край. И Ад ты зрел -- в себе, а после -- в яви.
Ты видел также явно светлый Рай в печальнейшей -- из всех страстей -- оправе. Ты видел: жизнь, она как остров твой. И с Океаном этим ты встречался: со всех сторон лишь тьма, лишь тьма и вой. Ты Бога облетел и вспять помчался. Но этот груз тебя не пустит ввысь, откуда этот мир -- лишь сотня башен да ленты рек, и где, при взгляде вниз, сей страшный суд совсем не страшен. И климат там недвижен, в той стране.
Откуда всё, как сон больной в истоме. Господь оттуда -- только свет в окне туманной ночью в самом дальнем доме. Поля бывают. Их не пашет плуг. Года не пашет. И века не пашет. Одни леса стоят стеной вокруг, а только дождь в траве огромной пляшет. Тот первый дровосек, чей тощий конь вбежит туда, плутая в страхе чащей, на сосну взлезши, вдруг узрит огонь в своей долине, там, вдали лежащей. Всё, всё вдали. А здесь неясный край. Спокойный взгляд скользит по дальним крышам. Здесь так светло.
Не слышен псиный лай. И колокольный звон совсем не слышен. И он поймет, что всё -- вдали. К лесам он лошадь повернет движеньем резким. И тотчас вожжи, сани, ночь, он сам и бедный конь -- всё станет сном библейским. Ну, вот я плачу, плачу, нет пути. Вернуться суждено мне в эти камни. Нельзя прийти туда мне во плоти. Лишь мертвой суждено взлететь туда мне. Да, да, одной. Забыв тебя, мой свет, в сырой земле, забыв навек, на муку бесплодного желанья плыть вослед, чтоб сшить своею плотью, сшить разлуку.
Не я рыдаю -- плачешь ты, Джон Донн. Лежишь один, и спит в шкафах посуда, покуда снег летит на спящий дом, покуда снег летит во тьму оттуда". Подобье птиц, он спит в своем гнезде, свой чистый путь и жажду жизни лучшей раз навсегда доверив той звезде, которая сейчас закрыта тучей. Подобье птиц. Душа его чиста, а светский путь, хотя, должно быть, грешен, естественней вороньего гнезда над серою толпой пустых скворешен. Подобье птиц, и он проснется днем. Сейчас -- лежит под покрывалом белым, покуда сшито снегом, сшито сном пространство меж душой и спящим телом.
Но ждут еще конца два-три стиха и скалят рот щербато, что светская любовь -- лишь долг певца, духовная любовь -- лишь плоть аббата. На чье бы колесо сих вод не лить, оно все тот же хлеб на свете мелет. Ведь если можно с кем-то жизнь делить, то кто же с нами нашу смерть разделит? Дыра в сей ткани.
Всяк, кто хочет, рвет. Со всех концов. Вернется снова. Еще рывок! И только небосвод во мраке иногда берет иглу портного. Спи, спи, Джон Донн. Усни, себя не мучь. Кафтан дыряв, дыряв. Висит уныло. Того гляди и выглянет из туч Звезда, что столько лет твой мир хранила. Блестит залив, и ветр несет через ограду воздух влажный. Ночь белая глядит с высот, как в зеркало, в квадрат бумажный.

Вдвойне темней, чем он, рука незрима при поспешном взгляде. Но вот слова, как облака, несутся по зеркальной глади. Милая, грусти не выдаст, путая спину и перед, песню, как платье на вырост, к слуху пространства примерит. Правда ведь: как ни вертеться, искренность, сдержанность, мука, -- нечто, рожденное в сердце, громче сердечного стука.
С этим залогом успеха ветер -- и тот не поспорит; дальние горы и эхо каждое слово повторят. Вот и певец возвышает голос -- на час, на мгновенье, криком своим заглушает собственный ужас забвенья. Выдохи чаще, чем вдохи, ибо вдыхает, по сути, больше, чем воздух эпохи: нечто, что бродит в сосуде. Здесь, в ремесле стихотворства, как в состязаньи на дальность бега, -- бушует притворство, так как велит натуральность то, от чего уж не деться, -- взгляды, подобные сверлам, радовать правдой, что сердце в страхе живет перед горлом.
Подтверждается правда судьбы -- человеком с монеткой в ладони. Точно так же движенье души, что сродни умолкающей ноте, замирающей в общей тиши, подтверждает движение плоти. Так и смерть, растяжение жил, -- не труды и не слава поэта -- подтверждает, что все-таки жил, делал тени из ясного света.
Подобье птиц, и он проснется днем. Сейчас — лежит под покрывалом белым, покуда сшито снегом, сшито сном пространство меж душой и спящим телом. Уснуло все. Но ждут еще конца два-три стиха и скалят рот щербато, что светская любовь — лишь долг певца, духовная любовь — лишь плоть аббата.
На чье бы колесо сих вод не лить, оно все тот же хлеб на свете мелет. Ведь если можно с кем-то жизнь делить, то кто же с нами нашу смерть разделит?
Дыра в сей ткани. Всяк, кто хочет, рвет. Со всех концов. Вернется снова. Еще рывок! И только небосвод во мраке иногда берет иглу портного.

Спи, спи, Джон Донн.